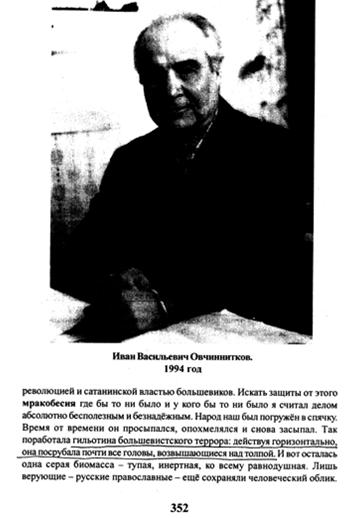С.138
Между тем, продолжалось разрушение сельского хозяйства России, удушение и физическое истребление русского крестьянства. Великий уголовник из инородцев, поставленный жидами у кормила власти, окруженный синклитом жидов и жидовствующих, планомерно, настойчиво и неуклонно проводил в жизнь марксистско-ленинские идеи. При индивидуальном землепользовании, заявил в одном из своих докладов этот корифей всех наук, слишком много хлеба потребляется внутри крестьянского двора. Эта «ошибка» была исправлена коллективизацией. Хлебный паек крестьянству был урезан до минимума, а затем постепенно сведен на нет.
Пропаганда барабанила о непрерывных успехах. Целый легион продажных писак, пошлых и подлых, восхвалял на все лады и превозносил до небес деяния «великого и мудрого вождя».

Несмотря на почти полную изоляцию от внешнего мира и оторванность от собственного народа, характерные для условий военно-учебных заведений, до нас все-таки доходили слухи об ужасающем положении в русской деревне. Там царили голод и полный развал. Единственным способом спастись от голода, насилия и каторжного труда было бегство в город. Но власти не давали крестьянам паспортов и увеличивали террор, стремясь любыми средствами привязать мужика к земле, которую он когда-то любил как мать-кормилицу и от которой теперь бежал как от злой мачехи.
Чтобы спасти положение, необходимо было срочно возвратить крестьянству землю, отнятую у него актом коллективизации и так называемой национализации. Но это сулило в перспективе расцвет России и торжество русской нации и означало бы признание краха всех надежд мирового Сиона. Еврейская власть пойти на это не могла и продолжала цепко держаться за систему колхозов и совхозов, ибо только этим способом создавались условия для постепенного, рассчитанного на долгий срок «технического» геноцида, тихого и неприметного хирения, деградации и, в конечном счете, вымирания русской нации от голода, рабства и каторжного труда.
Летом 1952 года мой однокурсник и приятель Михаил Т. предложил мне провести отпуск у его родителей в деревне, в Оренбургской (тогда Чкаловской) области. Его отец был заместителем председателя колхоза. Я согласился. Поездом мы доехали до Чкалова, а оттуда на попутной машине по пыльным проселкам, углубившись километров на сто в Оренбургские степи, добрались до его деревушки, растянувшейся на добрых полтора километра вдоль крохотной речушки анфиладой маленьких глинобитных избушек, крытых соломой. Впрочем, около половины этих избушек пустовало, являя собой скорбную картину развала и деградации сельского хозяйства. Хозяева их либо вымерли от голода во время войны и послевоенные годы, либо, преодолев искусно расставленные для их закрепощения препоны, выехали в город.
Половину деревни заселяли татары, другую половину русские. Многовековой спор этих двух наций за преобладание теперь закончился мирным сосуществованием и одинаковым рабством для тех и других. Вся деревня казалась вымершей. Ни людей, ни животных, лишь на подходе к домику моего приятеля, стоявшему на самом конце села, мы увидели лежавшего в тени у стены одной избушки маленького, тощего и грязного поросенка и неподалеку от него двух малышей годика по полтора, копошившихся в дорожной пыли. Они тоже были худенькие, со вздувшимися животиками, грязные и совершенно голые. Заметив нас, они оставили свои занятия и, повернув в нашу сторону чумазые личики, уставились на нас удивленными печальными глазками.
Проехал всадник верхом на лошади без седла, свесив босые ноги на одну сторону ребристых боков заморенной лошадки. Он мрачно и как бы по принуждению поздоровался с нами. «Это председатель», - шепнул мне Михаил. Я удивился, но ничего не сказал своему другу. Меня поразил вид председателя: молодой лет традцати пяти мужчина, сухопарый, со впалой грудью; на голове его была старая, вылинявшая под жарким степным солнцем фуражка с черным околышем артиллериста, тело прикрыто истлевшей до дыр грязной майкой и столь же ветхими серыми брюками, которые, казалось, вот-вот свалятся с него клочьями.

Все эти картины наполняли мою душу мраком и унынием. Да и приятель мой был не весел. Я уже начинал раскаиваться, что согласился поехать отдыхать в эту дикую степную глухомань, нищую, голодную, разоренную. «Господи, - думалось мне, - да есть ли у них дома хотя бы хлеб-то?»
Постепенно я узнал обстановку. Хлеб – легально или нелегально – был только в домах председателя и его заместителя, то есть, отца моего приятеля. В остальных семьях хлеба не было с первых дней войны, то есть, более десяти лет. Во время войны был страшный мор – вымерла половина села. На трудодни не получали ничего. К моменту сбора урожая из района приезжали специальные инспектора и брали под свой контроль каждый килограмм зерна до тех пор, пока все оно не будет вывезено.
Каждый колхозный двор, до предела истощенный и разоренный ежегодными поборами, был должен государству огромные суммы, возраставшие c каждым годом. Выплатить эти деньги не было никакой надежды. «Наш колхоз – миллионер! – горько шутили колхозники, - два миллиона государству должны.»
- Как же все-таки люди живут? – спросил я однажды Михаила.
Он ответил лаконично:
- Воруют.
Оказывается, пока инспектора не успели вывезти весь хлеб, надо было умудриться украсть себе на жизнь. Украсть выращенный своими мозолистыми руками, трудом и потом свой собственный хлеб! Какой позор, какое унижение для крестьянина-хлебороба! Так вот в чем смысл коллективизации, прояснилось в моей голове: он не столько в том, чтобы отнять у крестьянина землю, которой он пользовался в течение столетий, сколько в том, чтобы лишить его законного права распоряжаться плодами своего труда. В этом главный смысл колхозного рабства, в этом источник и первопричина антирусского геноцида. Отнять у крестьянина хлеб – это значит не только его самого удушить голодной смертью, но и обречь всю нацию, всю страну на полуголодное существование, на вечный страх за свою жизнь и за жизнь своих детей. Это значит искусно регулировать рождаемость и смертность, с тем, чтобы, в конечном счете, совершенно разложить, обескровить и загнать в могилу весь народ – во славу победоносного Израиля.

Мрачные мысли роились в моей голове, отягощая всё сознание. Я видел страдание собственного народа и мучительно переживал своё бессилие. Иногда мы с Михаилом обменивались мыслями по этому поводу. Он тоже достаточно хорошо понимал обстановку, но воспринимал ее значительно легче. Его отец был не рядовым колхозником и потому в его доме хлеб не переводился, хотя, вероятно, тоже ворованный. И всё-таки однажды в откровенной беседе я высказал ему свои соображения. Я говорил ему в том смысле, что мы, русские люди, понимающие трагическое положение своего народа, могли бы при желании повлиять на судьбу своего Отечества, стонущего под игом жидомарксизма. Мы молоды и будущее за нами. Наконец, мы – элемент армии, той вооружённой силы, которая обязана защищать независимость Родины и свободу своего народа. Мы, хоть и младшего ранга, но – русские офицеры. Разве не к нам обращены слова нашего великого поэта: «Пока свободою горим, пока сердца для чести живы...»
Я уважал своего друга и относился к нему даже с некоторым почтением. Он был старше меня на четыре года, участвовал в войне, был ранен, имел орден Отечественной войны, Красной Звезды и несколько медалей. Его мышление отличалось трезвостью, практичностью, было чуждо крайностям и романтическим увлечениям. Как и все почти (быть может, за малым исключением) слушатели нашего курса, да, видимо, и всего института, ни в какие марксистско-ленинские бредни он не верил, но покорно шел по проторенной колее, которая сулила жизнь духовно серую и блеклую, но сытую и покойную.
В это время прежнее поколение советских функционеров морально и физически уже устарело и постепенно сходило со сцены. Выходцы из масс фабрично-заводского люда и беднейшего крестьянства, с образованием в объеме трехклассной церковно-приходской школы, а то и вовсе без какого-либо систематического образования, выскочки за счет партийного билета и раболепства перед евреем-политруком, они ещё продолжали занимать высшие командные должности в армии, в системе ВЧК и ГУЛАГа (где, правда, всегда и неизменно, как и в армейских политорганах, главенствующее место занимали евреи), в государственной администрации, партаппарате и в бюрократической народнохозяйственной иерархии.
Они быстро постигли вкус власти, роскоши и грубых наслаждений, прогнили, разложились и коррумпировались. Их природная тупость и бездарность являлись тормозом прогресса на всех участках общественной деятельности, где они подвизались. В силу своей природной ограниченности, они слепо верили в марксизм-ленинизм, считали эту идеологию своей, открывшей им перспективу личного успеха, счастья и процветания, понимаемых грубым умом как сытость и материальное изобилие. Узкий кругозор мешал им видеть принципиальную лживость марксистской «науки», ее внутреннюю противоречивость и косный, мертвящий дух, свойственный всему, что исходит от иудаизма и вообще от еврейских умов.
На смену им шло, пёрло новое, молодое поколение – поколение образованных циников. Основа морали этого поколения нашла своё выражение в парадоксе, одинаково шуточном и мрачном: «Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным.» Богатство и здоровье сулил только партбилет.

Мы с Михаилом принадлежали к той категории молодых людей, которые видели гниль и холуйство «старой гвардии», понимали ее банкротство, но и цинизм нового поколения, шедшего ей на смену, претил нам. Мы оказались в положени рыцаря на распутье: влево пойдешь – коня потеряешь, вправо – сам погибнешь...
Михаил парировал мои доводы простыми и ясными рассуждениями, в которых была и доля юмора, и изрядная примесь цинизма. Люди мы хотя и русские, и судьба России для нас не безразлична, однако систему эту создали не мы, не нам эту кашу и расхлёбывать. Офицеры же мы не русские, а советские, и здесь не просто разница в названии, а различие глубокое, принципиальное, с которым мы не можем не считаться, если не хотим расстаться со своим званием, службой и социальным положением.
- Но это же полнейшая безысходность, беспросветность! – восклицал я со свойственной мне в таких случаях горячностью и увлеченностью. – Ведь это же участь рабов, рабов в военной форме с золотыми погонами! Нет, Миша, с такой долей я смириться не могу. Должен быть другой выход, и я буду его искать.
- Выход? Тебя интересует выход из создавшегося положения? – он саркастически улыбнулся. – Пойдем, я покажу тебе выход.
Я несколько растерялся от такого, для меня совершенно неожиданного оборота дела, однако мой друг вовсе не шутил и действительно вознамерился мне что-то показать в качестве «выхода».
- Пойдем, пойдем, я не шучу, - заговорил Миша тоном примирительным, с оттенком юмора и иронии. – Уж коли ты возмечтал о выходе, я покажу тебе нечто.
Мы пошли с ним по пустынной деревенской улице, прошли русскую часть, вступили в татарскую и остановились против небольшого деревянного домика с вывескою «Сельпо». На дверях домика висел большой ржавый амбарный замок, но Михаила это не смутило. Против этого домика стоял другой домик, тоже деревянный. В нём жил молодой человек из татар – завмаг, продавец и одновременно секретарь комсомольской ячейки. Мы вошли в его жилище и попросили его открыть своё заведение. Он быстро собрался и исполнил нашу просьбу.
Входим в магазин. Прилавок и полки абсолютно пусты. Исключение составляют пять или шесть стоящих рядком бутылок водки с одинаковыми зелеными этикетками и головками красного сургуча – живописная демонстрация новой формы отношений между городом и деревней, между советским государством и коллективизированным крестьянством. Правда, колхозный хлеб государство выгребало не только подчистую, но и безвозмездно, водочку же поставляло селу за денежки.

Мы взяли две бутылки и отправились домой. Шли молча. Говорить и спорить было не о чем. Действительность сама кричала, вопила о страшной несправедливости и жестокости власть имущих в отношении русской деревни, и убедительно крушила в нас те марксистско-ленинско-сталинские догматы, которыми нас пичкали в аудиториях института. Дома Михаил достал хлеб, два чайных стакана и нарезал крупными колясками пару малосольных огурцов. Затем, откупорив бутылку, обратился ко мне:
- Итак, вас, молодой человек, интересует выход из создавшегося положения. Сейчас мы его поищем и обязательно найдём. Наблюдайте, действие первое. (Он налил в каждый стакан больше половины.) Действие второе. (Мы подняли стаканы и звонко чокнулись.) Действие третье. (Он лихо, по-фронтовому, опрокинул свой стакан.)
Мне ничего не оставалось, как последовать его примеру. Отвратительный запах сивухи ударил в нос, алкоголь обжег горло, раскаленным углем прошел по пищеводу и закипел в желудке. Молодой здоровый организм с содроганием реагировал на это насильственное отравление. Чтобы погасить чувство отвращения и тошноты, я быстро сунул в рот коляску огурца. Но алкоголь уже огнём растекался по телу, ударил в голову и сладким туманом застелил глаза, создавая иллюзию блаженства. Михаил смотрел на меня снисходительно и улыбался.
- Ну, как «выход»? – Помолчав, жуя хлеб с огурцом, добавил: - Это далеко не худший, и я бы сказал, в сложившейся обстановке наилучший выход. Закусывай да повторим.
-
Вскоре приехал в отпуск брат Михаила, старший лейтенант, служивший где-то в Молдавии. Поиски «выхода» участились. И я почувствовал себя в положении утопающего и стал искать предлога для бегства восвояси. В один из дней не вернулся из поездки в район отец Михаила, а через пару дней пришла от него тайком посланная записка: арестован, сидит в тюрьме. О причине ареста можно было лишь догадываться. Власти, вечно неудовлетворенные объемом поставок хлеба, отыгрывались на нижних звеньях руководства. Дом погрузился в траур. Я почувствовал себя лишним и распрощался с добрыми и гостеприимными хозяевами.
Проходя в последний раз через деревню, я вновь увидел играющих в дорожной пыли чумазых малышей. Человек в военной форме был для них редкостью, и они снова устремили на меня свои любознательные печальные глазки – взор чистых ангелочков, слетевших с небес на несчастную русскую землю. Отойдя на значительное расстояние и чувствуя за спиной их взгляд, я оглянулся. Они всё так же неподвижно сидели в дорожной пыли и внимательно следили за удаляющейся фигурой военного.

Мне стало больно на душе и захотелось плакать. Вот так бы пасть на землю, в этот дорожный прах под знойным оренбургским солнцем, зарыдать и излить свою горечь и муку в обильных горючих слезах. Но нет! Слёзы – не удел солдата! Надо идти вперед и бороться.
Возвратившись в Москву, я провел остаток отпуска в размышлении над участью русской деревни, судьбой русского народа и своей собственной долей. Виденное и пережитое в оренбургской деревне давало тому обильную пищу. Целыми днями бродил я по улицам, скверам и аллеям парков полюбившегося мне города, священной столицы моего народа, бродил без плана, бесцельно и как бы бессмысленно. Это была потребность исстрадавшейся, измученной души, стремившейся что-то уяснить, уравновесить и, в конечном счете, приплыть к какому-то смутно, но вожделенному и таинственному берегу за туманными далями.
В один из таких дней, поднимаясь по проезду Серова от площади Ногина к площади Дзержинского, я стал свидетелем картины, потрясшей меня до глубины души. С правой стороны на тротуаре стояла худенькая, бедно одетая молодая женщина с младенцем на руках. Она была средневысокого роста и могла бы быть красавицей русского крестьянского типа, если бы не эта удручающая бедность в одежде, худоба и читаемая на лице изможденность и усталость от изнурительного труда и безысходной нужды.
Младенец – это был примерно годовалый мальчик – так же поражал своим жалким видом. Худенькое, с восковым налетом личико, слабенькое, почти бесплотное тельце, прикрытое самодельной ситцевой рубашкой без рукавов, бессильно опущенные вниз ручки-прутики и такая тоненькая шейка, что, казалось, голова ребенка вот-вот упадет в бессилии набок. Пораженный в самое сердце, я остановился в оцепенении. Поистине это было видение русской мадонны с младенцем.
Она собирала подаяние, и две пожилые женщины протянули ей монетки. Мимо прошли благополучные москвичи, не задерживаясь и не замечая неудобного явления. Проскочили, презрительно ухмыльнувшись, два-три торопливых жидка со своими папками и портфелями – чекисты, прокуроры, журналисты... наши благодетели.

Это было видение моей родины – России – измордованной, заезженной, замученной на колхозных полях, у заводских станков, в концлагерях, в очередях у тюремных ворот. Видение России в рабстве – страшное в своей простоте, обнаженности и прямоте. И оно сказало моему сердцу: не милостыню подать, а отдать ей все до последнего грошика, снять с себя последнюю рубашку, мало того – отдать ей всю свою жизнь до последнего издыхания.
И снова, как тогда, в степной деревушке оренбургского края, волна боли и горечи окатила душу и захотелось пасть на жесткую мостовую и зарыдать, и залить все вокруг горькими слезами нашего русского безысходного горя. Слезы застилали глаза, подступали к горлу, перехватывали дыхание, рвались наружу. Я поспешил в сквер через дорогу, сел на скамье и дал волю своему чувству.
Редкие на аллеях прохожие из деликатности обходили мое место подальше, видимо, полагая, что у юноши в военном большое личное несчастье. Мне же слышался плач детей «раскулаченных», стоны концлагерников, хрип расстрелянных и вопли избиваемых в застенках ВЧК. Как наяву, снова видел бесконечные колонны арестантов во Владивостоке, терзаемых овчаркой «изменников родины» в Кемерове, конвойных солдат, сторожевые вышки, а сердце прожигал ангельский взгляд младенца с восковым личиком.
И я понял, что по самой сути своей, в силу каких-то непонятных мне причин я не могу быть и никогда не буду равнодушен ко всем этим чудовищным злодеяниям, преступлениям на моей родине. Пусть я ничего существенного не смогу сделать для освобождения России от этого жуткого состояния рабства, но борьба с этой мерзостью или хотя бы просто непримирение и противостояние, пусть в одиночку, - это в моей власти, это моя личная воля.